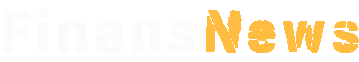Порядка 36% средств, или почти 18 млрд рублей, выделенных на индивидуальные программы поддержки регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития, не привели к достижению результатов. К таким выводам по итогам проверки пришла Счетная палата (СП). Госаудиторы указывают, что в ряде случаев средства использовались нецелевым образом, а в некоторых эпизодах речь идет о нарушении законодательства. В СП предлагают скорректировать параметры программ поддержки до 2030 года, а также провести прокурорскую проверку. В Минэке подчеркивают, что по инвестициям и созданию рабочих мест план в ходе реализации программ был перевыполнен
Счетная палата (СП) провела проверку реализации индивидуальных программ развития (ИПР) — комплекса мер поддержки десяти регионов, отстающих по показателям социально-экономического развития. Более трети всех расходов, выделенных из федерального бюджета, — 36,4% (17,9 млрд рублей из 49,4 млрд), не привели к достижению результатов по конкретным мероприятиям, говорится в отчете СП о результатах контрольного мероприятия. Особенно низкие результаты отмечаются в отношении мер развития туризма (порядка 50% выделенных средств не привели к достижению плановых показателей). В ходе проверки были выявлены «многочисленные факты предоставления недостоверных данных» о выполнении мероприятий в рамках ИПР. Кроме того, установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств и нарушения законодательства, что требует прокурорского реагирования, отмечается в отчете.
ИПР было разработано Минэкономразвития в 2019 году в целях повышения качества жизни и сокращения уровня бедности населения в десяти регионах: Адыгее, Алтае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл, Тыве, Чувашии, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях. Программы реализовывались в 2020-2024 годах, позже они были продлены до 2030 года почти для того же круга регионов (только Карелия была заменена на Хакасию). ИПР были направлены на улучшения четырех экономических показателей: темпов роста инвестиций в основной капитал и среднедушевого дохода, а также уровней безработицы и бедности.
В рамках ИПР были запланированы 120 мероприятий по развитию промышленности, сельского хозяйства, туризма, модернизации инфраструктуры ЖКХ и строительству социальных объектов. Общие расходы федерального бюджета за пять лет составили 49,4 млрд рублей, из региональных бюджетов — 1,7 млрд. В ходе аудита СП все мероприятия программ были разделены на четыре крупные группы: модернизация инфраструктуры ЖКХ и строительство соцобъектов, развитие предпринимательской деятельности, развитие туризма и иные мероприятия. Больше всего средств федерального бюджета направили на развитие предпринимательской деятельности (57,3% от всех расходов).
Несмотря на достижение плановых показателей по снижению уровня бедности во всех регионах, их место в общем списке среди других регионов по этому показателю изменилось незначительно, говорится в отчете СП. Наибольшее снижение показателя было зафиксировано только в Карелии — республика поднялась с 53 места в 2029 году на 44 место в 2024-м. При этом Алтай остался на 80 месте, а Адыгея с 36 строки упала на 45, Алтайский край — с 66 на 73.
По оценке Минэка, из 120 мероприятий, предусмотренных в рамках ИПР, в полном объеме были выполнены 107, два мероприятия находятся в стадии исполнения и 11 — не исполнено. За пять лет было создано 20 500 рабочих мест, привлечено 136,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций (при плановых значениях — 16 800 рабочих мест и 89,7 млрд рублей внебюджетных инвестиций).
Однако данные, полученные в ходе аудита Счетной палаты, отличаются в худшую сторону. Плановые показатели не достигнуты по 37 из 120 мероприятий — общие расходы на них составили 36,4%. Рабочих мест было создано 18 100 и привлечено 125,2 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Расхождение с оценкой Минэка связано с отсутствием документального подтверждения достижения заявленных показателей по ряду регионов, говорится в отчете. В региональном разрезе больше всего мероприятий с недостигнутыми показателими зафиксировано в Тыве и Карелии (9 и 10 соответственно, в обоих случаях расходы на их реализацию составили 3,7 млрд рублей).
Счетная палата также выявила случаи нецелевого использования средств федерального бюджета. Например, в Адыгее 65,6 млн рублей из федерального бюджета, сэкономленные на берегоукрепительных работах, потратили на благоустройство набережной реки Белая, а в республике Алтай 17,4 млн рублей, выделенные на реконструкцию школы, использовали на создание спортивной площадки и ограждений, а также закупку прочих материальных запасов.
Помимо этого, в республике Алтай выявлен ряд нарушений законодательства, «требующих применения мер прокурорского реагирования», подчеркивается в отчете СП. Например, в рамках ИПР был заключен контракт в 83,7 млн рублей на возведение противопаводковых дамб на реке Чулышман — деньги уплачены в полном объеме, но объект не построен. Срывы сроков строительства — в целом одна из проблем, которые выделяет СП: по состоянию на 1 апреля 2025 года значительное число запланированных объектов все еще не возведено.
На 2025–2030 годы на реализацию ИПР предусмотрено 60 млрд рублей (по 10 млрд ежегодно). В Счетной палате считают, что с учетом итогов аудита часть показателей и мероприятий ИПР‑2030 нуждаются в корректировке. В частности, госаудиторы предлагают правительству поручить Минэкономразвития до 25 сентября 2025 года подготовить предложения о внесении изменений в программы в части корректировки целевых показателей по уровню бедности» и уровню безработицы. До 1 декабря, согласно рекомендациям, необходимо проработать изменения в методике расчета показателей по объему внебюджетных инвестиций и созданным рабочим местам, а также требования к подтверждающим документам. Также в СП предлагают исключить мероприятия по развитию туризма из ИПР‑2030, предусмотрев при необходимости их продолжение в составе госпрограммы «Развитие туризма». Наконец, Счетная палата предлагает Генпрокуратуре провести по выявленным нарушениям законодательства надзорные мероприятия.
Плановые значения результативности мероприятий перевыполнены: привлечено 138,3 млрд рублей инвестиций (154% от плана) и создано 20 500 рабочих мест (124% от плана), подчеркивает представитель Минэкономразвития. Также в министерстве считают, что ряд выводов Счетной палаты требуют уточнения. В ИПР было два набора показателей: индикаторы результативности мероприятий — рабочие места, внебюджетные инвестиции, а также показатели социально-экономического развития регионов — уровень безработицы, уровень бедности, темп роста среднедушевого дохода и темп роста инвестиций в основной капитал. «Поэтому показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций…» применять к оценке эффективности ИПР-2024 некорректно, поскольку он считается по региону в целом», — отметил представитель ведомства. Также он подчеркнул, что недостижение отдельных показателей не свидетельствует о неисполнении мероприятия в целом. «Мы учли замечания Счетной палаты в ИПР до 2030 года в отношении мероприятий по развитию туризма. Теперь программы включают показатели: «увеличение туристического потока», «туристический поток, «количество реализованных проектов в сфере туризма», — добавил он.
По словам директора исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», доцента кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Плеханова Венеры Шайдуллиной, в числе причин недостижения ряда плановых показателей — отсутствие методологической базы. Одной из ключевых проблем стало отсутствие единых методик расчета основных показателей эффективности программ, пояснила она. Не были четко определены способы расчета объема привлеченных внебюджетных инвестиций и количества созданных рабочих мест, что привело к различным трактовкам результатов в разных регионах и невозможности объективной оценки эффективности, добавила Шайдуллина.
Также сказалась несогласованность целей и показателей. «Показатели, заложенные в индивидуальные программы развития, как указано в отчете, часто не соответствовали показателям в соглашениях о предоставлении федеральных субсидий», — говорит эксперт. Некоторые мероприятия вообще не позволяли оценить их вклад в достижение социально-экономических показателей, отметила она. Помимо этого, по мнению Шайдуллиной, можно отметить недостаточный контроль: Минэкономразвития и другие федеральные органы не проводили фактическую проверку данных о реализации программ. Было выявлено множество случаев предоставления недостоверной отчетности, отсутствовал механизм обмена данными между участниками программ и Федеральной налоговой службой для проверки фактического увеличения налоговых отчислений.
Необходимо пересмотреть цели ИПР, к примеру, новые рабочие места на сегодняшний момент — не ключевой вопрос, говорит директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский. Важнее — доходы населения, налоговые поступления. Вероятно, следует установить более гибкие цели — набор показателей может меняться в зависимости от региона и содержания ИПР, считает он.
По его мнению, также нужно обсуждать изменение принципов распределения бюджетных ресурсов. Регионы, где реализуются ИПР, очень разные, и те суммы, которые значимы для республики Тыва, не могут оказать существенного влияния на ситуацию в республике Алтай или Карелии, пояснил Землянский. При этом ИПР остаются одним из важнейших инструментов для менее развитых регионов страны. Они позволяют запустить мероприятия, которые не получалось сделать в рамках других стандартных механизмов, заключил он.