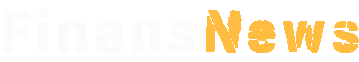Содержание
Приход Дональда Трампа к власти в США сопровождался волной оптимизма среди криптоинвесторов. В ходе избирательной кампании он обещал создать первый в мире национальный крипторезерв — шаг, который, по мнению участников рынка, мог бы спровоцировать резкий рост спроса на биткоин и изменить баланс сил. Эти заявления стали катализатором аналогичных инициатив во многих странах. На практике законопроект Трампа оказался не таким амбициозным, как ожидали криптоэнтузиасты, что привело к обвалу рынка. Рассказываем, что произошло, и как идея о резерве развивается в других странах
Обещание, вдохновившее рынок
Во время президентской кампании 2024 года Дональд Трамп называл себя криптопрезидентом. Он пообещал создать государственный криптовалютный резерв и изменить подход к регулированию цифровых активов в США. Эти заявления прозвучали на фоне ужесточения политики Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении криптокомпаний — в том числе против Coinbase и Binance. Курс Трампа стал символом поворота к рыночной либерализации. Результат не заставил себя ждать — сразу после объявления победы Дональда Трампа на выборах цена биткоина стремительно выросла с $65 000 до $100 000, обновив исторические максимумы.
Уже в январе 2025 года Трамп подписал указ о создании рабочей группы при Белом доме для изучения возможности формирования национального крипторезерва. Предполагалось, что его основой станут активы, уже находящиеся в распоряжении федерального правительства, в частности около 200 000 биткоинов, конфискованных в ходе операций против киберпреступников и нелегальных платформ.
В марте 2025 года президент сделал следующий шаг, подписав указ о создании Национального резерва биткоина. Документ закрепил отказ от прежней практики: вместо продажи конфискованных цифровых активов правительство перейдет к их накоплению. При этом формирование резерва не потребует дополнительных расходов для налогоплательщиков. Тем же указом был учрежден фонд цифровых активов, предназначенный для хранения других криптовалют, таких как Ethereum, Solana, XRP, Cardano и других.
Формат реализации инициативы был далек от рыночных ожиданий с самого начала, отмечает Михаил Божор, генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры». «В состав крипторезерва предлагалось включить три криптовалюты, а именно — SOL, XRP и ADA, которые, по мнению экспертов, не обладают достаточными стабильностью и ликвидностью», — поясняет он. По словам юриста, только после негативной реакции со стороны инвесторов было принято решение о включении в резерв Bitcoin и Ethereum — активов с более высокой степенью признания на рынке. При этом Божор подчеркивает, что появление XRP в числе резервных валют могло быть следствием политических договоренностей: «По сообщениям СМИ, президент США консультировался с руководством Ripple Labs — создателем XRP, соответственно есть основания полагать, что токен XRP появился в составе резерва в результате лоббирования со стороны этой компании».
Кроме того, инвесторы рассчитывали, что у правительства США появится обязательство напрямую закупать криптовалюты для пополнения государственных резервов. Но быстро стало ясно, что таких планов у властей нет и никакого дополнительного спроса — одного из ключевых факторов для роста цен — не предвидится.
«Формирование крипторезерва из бюджетных средств для прямой закупки криптовалют было бы слишком агрессивным решением, особенно с учетом дефицита бюджета страны, который составляет $1,8 трлн, или 6,4% ВВП. Полагаю, рассчитывать на это было наивно», — комментирует ситуацию Рустам Боташев, портфельный управляющий криптоинвестиционного банка Hash CIB. По его мнению, действия администрации были предсказуемыми: «Получается, одновременно и резерв как бы формируется, и демонстрируется поддержка криптоиндустрии, при этом бюджетные средства не затрагиваются. Чистый пиар, характерный для стиля Трампа».
Дополнительное разочарование вызвали юридические обстоятельства. Более половины из заявленных 200 000 биткоинов должны быть возвращены бирже Bitfinex по решению суда в январе 2025 года. В результате реальный объем доступного резерва оказался значительно ниже первоначально заявленного. Ожидаемой ликвидной поддержки рынок не получил.
Такое расхождение между ожиданиями и реальностью отразилось на настроениях. Индекс «жадности и cтраха» крипторынка снизился до самых низких уровней с «криптозимы» 2022 года, а капитализация сократилась почти на 17%. Институциональные инвесторы свернули краткосрочные криптостратегии, общее настроение сменилось с эйфории на осторожность.
«Американский крипторезерв — это как попытка создать государственный рок-н-ролл: формально похоже, но духа нет», — говорит Алексей Мокров, основатель CryptoBotPro LLC. Он считает, что сама идея возникла не как рыночный ответ на спрос, а как политический жест: «давайте покажем, что мы тоже в теме». Мокров подчеркивает, что существующая финансовая система, основанная на долларовой монополии, по определению не может искренне поддерживать активы, способные подорвать ее основу: «Поэтому крипторезерв в США стал по сути регулируемым цифровым суррогатом, в котором рынок сразу почувствовал фальшь».
«Монополия доллара — это серьезный международный инструмент влияния, и создавать альтернативу, имеющую к тому же корни в Китае, американский президент не будет, — считает и генеральный директор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. — Кроме того, большое количество скандалов и крах FTX сделали криптоиндустрию сферой, с которой дальновидные политики не хотят пока иметь дел, чтобы не похоронить свою репутацию и не уходить в отставку, когда рухнет очередная биржа».
После резкого падения рынок начал понемногу восстанавливаться. К концу апреля цена биткоина вернулась в диапазон $90 000–95 000 — именно в этом коридоре она находилась на момент подписания указа Трампом.
Как бы то ни было, инициатива США вызвала международный отклик. В ряде стран — от Польши и Германии до Бразилии и Гонконга — активизировались обсуждения возможности создания собственных крипторезервов.
Опаздывающий локомотив Европы
В отличие от США, европейские инициативы столкнулись с трудностями: большинство из них либо провалились, либо вызвали резкое сопротивление со стороны регуляторов и центробанков.
В конце декабря 2024 года Кристиан Линднер — лидер Свободной демократической партии Германии и бывший министр финансов — предложил включить биткоин в структуру активов как Европейского центрального банка, так и Бундесбанка. Концепция включала три направления: выпуск облигаций на блокчейне, стратегическое хранение биткоина и создание регулируемых биткоин-ETF на уровне ЕС.
Проект подвергся резкой критике со стороны президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. По его словам, биткоин не соответствует ключевым критериям валютного резерва — безопасности, ликвидности и прозрачности. «Я бы приветствовал более критический анализ этой темы, — отметил Нагель в интервью изданию Platow Brief. — Как мне кажется, энтузиазм по поводу необеспеченных криптоактивов, таких как биткоин, можно сравнить с тюльпаноманией XVII века, когда в Нидерландах цены на тюльпаны взлетели в десять раз всего за несколько недель, а затем пузырь лопнул, вызвав первый финансовый кризис в современной истории». Подводя итог, он добавил: «Любой ажиотаж рано или поздно угасает. Криптоактивы, такие как биткоин, — это цифровые тюльпаны».
Показательный момент — в июле 2024 года Германия продала имевшиеся у страны конфискованные 50 000 биткоинов, выручив около $2,88 млрд. Однако уже через несколько месяцев курс вырос более чем на 65%, то есть упущенная прибыль составила около $2 млрд.
На фоне осторожности Германии Чешский национальный банк в конце января этого года предложил иной подход. Его глава Алеш Михл в интервью Financial Times выступил за включение биткоина в структуру резервов — на уровне 5%. По его оценке, это могло бы увеличить доходность портфеля страны на 3,5 процентных пункта. Он рассматривал инициативу как шаг к диверсификации и укреплению финансовой устойчивости.
Однако эта идея была быстро заблокирована главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Несмотря на то что Чехия не входит в еврозону и не использует евро, ее центробанк является частью Генерального совета ЕЦБ, который оказывает влияние на финансовую политику стран — членов ЕС. На заседании совета Лагард категорично отвергла предложение Михла включить биткоин в официальные резервы, тем самым показав, что в вопросах цифровых активов ЕЦБ до сих пор придерживается крайне консервативной позиции.
В Швейцарии обсуждение темы вышло за рамки экспертного сообщества и перешло в сферу общественной инициативы. В январе 2025 года стартовал сбор подписей за кампанию «За финансово сильную, суверенную и ответственную Швейцарию». Она предполагает хранение части резервов Национального банка в золоте и биткоине.
Глава швейцарского центробанка Мартин Шлегель сразу обозначил позицию. Он подчеркнул, что капитализация всех криптовалют на фоне глобальной финансовой системы остается сравнительно небольшой и поэтому криптовалюты представляют собой нишевое явление, а также отличаются высокой волатильностью и требуют значительных энергозатрат. При этом Швейцарский национальный банк не игнорирует цифровые инновации: активно тестирует цифровую валюту (CBDC) для межбанковских расчетов с 2020 года. Однако участвовать в криптовалютной гонке он не готов, предпочитая проверенные и консервативные инструменты. «Мы не боимся конкуренции со стороны криптовалют», — отметил Шлегель, подчеркнув, что франк сегодня востребован как никогда.
Наиболее краткой, но не менее заметной оказалась попытка в Польше. Ультраправый политик Славомир Менцен еще в ноябре 2024 года предложил создать биткоин-резерв в рамках своей популистской предвыборной кампании. Национальный банк Польши почти сразу отверг инициативу. Его глава Адам Глапинский заявил, что национальные резервы должны обеспечивать абсолютную безопасность и стабильность. Использование биткоина он исключил.
В Европе начальный интерес, подогретый международной повесткой, быстро натолкнулся на скептицизм со стороны финансовых регуляторов. Для европейских властей принципы стабильности и прозрачности остаются важнее краткосрочных выгод и рисковых инноваций.
Азиатские инновации
Пока европейские проекты по созданию крипторезервов буксуют, в странах глобального Юга обсуждение этой идеи идет на более конструктивном уровне — хотя и без гарантий на успех.
Гонконг в условиях модели «одна страна — две системы» не только стремится укрепить собственную финансовую стабильность, но и позиционирует себя как экспериментальную площадку для остального Китая. Так, в декабре 2024-го депутат законодательного совета У Цзехуан предложил включить биткоин в резервы города. Он отметил, что на подобные шаги уже пошли такие небольшие страны, как Сальвадор, а Гонконг, в отличие от многих других регионов, может использовать свою автономию для более смелых экономических решений.
Пока инициатива находится на рассмотрении, Гонконг продолжает бороться за лидерские позиции в отрасли: комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выдала десять лицензий платформам для торговли виртуальными активами, в том числе три в этом году, а еще восемь заявок ожидают решения.
Михаил Божор отмечает, что в Гонконге действует собственное законодательство, регулирующее криптовалютную сферу. В частности, с середины 2024 года вступил в силу регламент о платформах по торговле виртуальными активами. «Тем не менее с учетом крайне негативного отношения Пекина к криптовалютам, — подчеркивает Божор, — инициативы, реализуемые в Гонконге, будь то криптовалютные ETF, создание местного крипторезерва и другие проекты, с высокой долей вероятности не будут распространены на территорию остального Китая».
Потребность в продуманном решении в отношении государственных криптоактивов существует. После запрета торговли криптовалютами в Китае в 2021 году объем выявленных криптопреступлений достиг $59 млрд к концу 2023 года. Это усиливает потребность в централизованном механизме распоряжения изъятыми активами. Согласно открытым источникам, Китай уже владеет значительным количеством биткоинов — 194 000, что сопоставимо с объемами в резервах США.
Дополнительную актуальность проблеме придает практика региональных властей Китая, которые, по некоторым данным, привлекают частные компании для реализации конфискованных криптовалют за границей. Эти средства направляются на пополнение местных бюджетов. Однако отсутствие единых правил ведет к непрозрачности и, как считают юристы, повышает риски коррупции.
«В континентальной части Китая ключевая задача — это сохранять контроль. Поэтому все криптоинициативы развиваются строго через Народный банк Китая», — отмечает Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, эксперт по крипторынкам и основатель онлайн-университета «Финансология». «Свободный крипторынок несовместим с моделью централизованного контроля над капиталом, которая действует в Китае. Так что инициатива Гонконга скорее останется локальной, инвестиционно-ориентированной и не будет легализована в полной мере на материке», — добавляет она.
В Бутане на границе с Индией в октябре 2024 года стартовал масштабный проект Gelephu Mindfulness City (GMC SAR) — новая особая административная и экономическая зона площадью около 2500 кв. км. Город станет самостоятельным экономическим кластером со своим законодательством, ориентированным на устойчивое развитие, технологические инновации и культурные традиции страны. Архитектура, как обещают, будет экологичной и низкоэтажной, без использования пластика; продовольствие — исключительно органическим, энергия — из возобновляемых источников, а передвижение — на велосипедах. Одним из семи ключевых секторов станет финтех: в рамках проекта создается первый в Азии цифровой резервный банк Oro и готовится к запуску собственная цифровая валюта Ter. Стратегическое расположение Гелепху может позволить городу стать новым связующим звеном между странами Южной и Юго-Восточной Азии.
В январе 2025 года администрация города объявила, что он станет одной из первых юрисдикций в мире, признавших цифровые активы на государственном уровне в составе резервов. Власти GMC заявили, что туда будут включаться цифровые активы с высокой рыночной капитализацией и ликвидностью — для обеспечения легкости покупки и продажи без существенного влияния на цену. Также приоритет будет отдаваться активам, выпущенным на зрелых, безопасных блокчейнах — в первую очередь речь идет о биткоине, эфире и BNB.
Вектор развития азиатского крипторынка сегодня во многом определяется концентрированным частным капиталом: по данным опроса, проведенного Aspen Digital, уже 76% азиатских семейных офисов держат цифровые активы, а цифровой банк Sygnum фиксирует намерение 57% сингапурских инвесторов увеличить их долю в портфелях в ближайшие два года. Этот интерес во многом зеркалирует настроения американского рынка — объем сделок, ориентированных на состоятельных клиентов, после победы Дональда Трампа вырос во всем регионе, а банки начали предлагать инвестировать в криптопродукты.
Цифровой реал
Наиболее известным примером криптовалютных экспериментов в Латинской Америке остается Сальвадор, первым признавший биткоин официальным средством платежа. Но в ноябре 2024 года и в Бразилии появилась собственная инициатива: ультраправая Либеральная партия предложила создать суверенный резерв на основе биткоина — RESBit. Инициатором выступил депутат Эрос Биондини. Резерв, по его задумке, должен защищать национальную экономику от геополитических рисков и валютных колебаний, а пополнение планируется за счет поэтапных прямых покупок биткоина на открытом рынке, до достижения лимита в 5% от общего объема международных резервов страны
Предполагается, что RESBit может стать также гарантийным инструментом для цифрового реала (Drex), который разрабатывается Центральным банком Бразилии. Законопроект пока не получил официального комментария со стороны президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Тем не менее администрация главы государства выразила интерес к обсуждению инициативы. Глава кабинета вице-президента Педро Джоконду Гуэрра назвал дискуссию «решающей для экономического процветания страны» и подчеркнул важность биткоина, охарактеризовав его как «цифровое золото». Такие заявления можно воспринимать как обнадеживающий сигнал от властей, но это не гарантирует, что инициатива будет воплощена в жизнь — политическая и экономическая ситуация в стране по-прежнему остается непростой.
Политика без экономики
Инициатива Трампа стала событием мирового масштаба, но ее внутренняя логика вызывает все больше сомнений. Отсутствие прямых закупок, неопределенный объем доступного резерва и потенциальный конфликт интересов с компанией Trump Media & Technology Group, продвигающей токен $TRUMP и продукты Truth.Fi, усилили критику со стороны СМИ и экспертов.
«Само участие компании Trump Media в продвижении собственных токенов и криптовалютных продуктов уже создает основания для обвинений в конфликте интересов, поскольку криптовалютные инициативы администрации президента могут положительно влиять на такие активы», — отмечает Михаил Божор. При этом, по его словам, правовые последствия для президента возможны только при наличии иностранного влияния: Конституция США упоминает конфликт интересов лишь в так называемом Foreign Emoluments Clause, который запрещает федеральным чиновникам получать вознаграждения от иностранных государств без одобрения конгресса.
С другой стороны, часть экспертов рассматривает происходящее не как нарушение норм, а как признаки формирования новой политической и экономической реальности. По мнению Алексея Мокрова, криптовалютные инструменты, используемые политиками, уже перестали восприниматься как нечто экстраординарное: «Мы живем в эпоху, где токен от кандидата в президенты воспринимается как нормальная часть избирательной кампании. То, что Trump Media продвигает криптопродукты, это новая реальность. Политики идут в крипту, потому что она дает деньги, влияние и прямой контакт с аудиторией без цензуры».
Критикуют инициативу Трампа и американские демократы: например, конгрессмен Джеральд Коннолли из Мичигана в письме министру финансов Скотту Бессенту заявил, что создание крипторезерва не принесет ощутимой пользы американцам, а лишь послужит дополнительным источником обогащения для самого Трампа и его доноров.
По мнению Рустама Боташева, характер проекта напоминает классические приемы Илона Маска по продвижению мемкоинов: «Чувствуется стиль «безумного Маска» и его многолетний опыт раскручивания мемкоинов. В этом случае понятно, кто те инсайдеры, которые заработали тысячи процентов и сотни миллионов». Боташев при этом полагает, что наибольшую выгоду, вероятно, получит сам Дональд Трамп, поскольку создателям токена и аффилированной с ним CIC Digital принадлежит 80% эмиссии TRUMP, а в течение трех лет на рынок будет постепенно поступать еще 800 млн этих монет.
История с крипторезервами наглядно иллюстрирует старый принцип: «покупай на слухах, продавай на фактах». Пока проект окружен ожиданиями и яркой риторикой, капитал следует за идеей. Но как только появляются конкретные показатели — нормативная база, пилотные трансакции, прогнозируемая доходность — становится ясно, какие инициативы действительно экономически обоснованы, а какие строились на завышенных ожиданиях.
На сегодняшний день инициатива США остается скорее политической декларацией, чем полноценным экономическим инструментом. Рабочая группа продолжает работу над отчетом, однако практический эффект минимален, а параметры реализации по-прежнему туманны.
Иная картина наблюдается в странах глобального Юга, где многим экономикам еще предстоит догонять развитые государства. Для них, считают ливанские исследователи, ссылающиеся на данные Всемирного банка, рынок цифровых активов — это реальный шанс ускорить развитие за счет новых возможностей роста в обход традиционных барьеров.
«В Азии и Латинской Америке криптовалюта — это не инвестиция, а способ выживания, — подчеркивает Алексей Мокров. — Это не вопрос моды, а вопрос экономического суверенитета. Сальвадору, Бразилии, Бутану не нужны токены ради хайпа — им нужна защита от валютной зависимости, инфляции и геополитических качелей. На Западе крипторезервы — это концепт для конференций. В развивающихся странах — это спасательный круг, обернутый в блокчейн. Будущее крипты строится не в Нью-Йорке, а в Сан-Сальвадоре, Дакке и Дубае. Не потому что там круче технологии, а потому что там реальнее нужда».